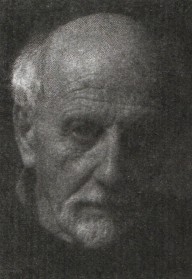Мой друг Сапсай
Господи, какими же наивными мы были тогда, летом тридцать седьмого года! В душной, битком набитой пересыльной камере Бутырской тюрьмы, уже пережившие страшное потрясение после приговоров Особого совещания, все чуть ли не мечтали попасть в лагеря. Там, дескать, будем работать, добиваться отмены приговоров, зарабатывать зачеты… Любой труд казался легче, чем сидение в опостылевших камерах.
Нас не страшил труд, все мы в предыдущей жизни трудились, и неплохо. Но никто из нас и помыслить не мог, что труд этот может быть непосильным, по 12-14 часов в день, на морозе или под дождем, без выходных дней, без постелей, без бани. Труд вечно голодных людей, поедаемых комарами, гнусом, нательными насекомыми, которые порой просто загрызали нас. К тому же вечный страх перед доносами и новым сроком. Что касается зачетов, то нам, политическим, они не полагались — сиди от звонка до звонка.
И еще не последнее в этом круге мучений — постоянное издевательство уголовников, хищных, по-своему хорошо организованных, натравливаемых лагерным начальством. Там, где уголовники оказывались в большинстве, они буквально терроризировали политических, там же, где их было поменьше, пакостили исподтишка, воровали все, что могли.
Никак не мог я тогда предположить, что именно из этой среды у меня появится близкий человек. Если бы мне это попытались предсказать, я саму такую возможность отверг бы с возмущением.
Однако жизнь сложнее и неожиданнее, чем нам порою кажется, — такой человек встретился на моем пути, и был он отнюдь не случайной фигурой в среде преступного мира, но настоящим рецидивистом, смелым и дерзким, вовсе не стыдящимся своих дел.
В отличие от центрального лагпункта, на кирпичном заводе не было зоны, а из охраны проживал лишь немолодой стрелок Янгаев, человек спокойный и терпимый. Нас он нисколько не притеснял, справедливо полагая, что никуда мы отсюда не денемся. Работа на заводе была потяжелее, чем в самом Адаке, но спокойная обстановка, а главное, отсутствие зоны делали пребывание здесь более привлекательным.
Однако после освобождения Ильи Любарского новый начальник завода не смог отделаться от уголовников; неожиданно к нам прислали троих, и были это не какие-то рядовые «сынки», а настоящие рецидивисты. Ясно, что прибытие их мы встретили настороженно. Поселили их в нашем верхнем бараке. Держались они вместе, подчеркнуто отделяясь от нас, впрочем, вели себя спокойно, никого не задевали. Работали все трое на лесоповале отдельной группой.
Были они все разные, но по-своему примечательные. Старший по возрасту, Михаил Семенников, по кличке Карзубый, то есть щербатый, был сухощавый, немногословный человек лет под сорок, по типу напоминавший цыгана. Самый младший, Федя, совсем еще молодой парнишка, сильно картавил. Бросалась в глаза его искалеченная левая рука, кисть была отрублена наискось, сохранились лишь два пальца, большой и указательный. Позднее я узнал, что руку порубил он сам в лагере на Соловках.
Заметно выделялся третий из этой компании, которого на поверках выкликали как Сапсая-Сидорова. Коренастый, среднего роста, коротко остриженный, он казался дерзким и энергичным, с начальством держался смело, даже вызывающе. Было ему лет под тридцать. Грубоватые черты лица с крупными чувственными губами и яркие, слегка навыкате, карие глаза не делали его физиономию отталкивающей, однако было в его облике нечто агрессивно-напряженное, какая-то каинова печать, по которой искушенные лагерники безошибочно определяют рецидивистов.
В отличие от большинства встреченных мною уголовников, со взглядом бегающим и одновременно наглым, Сапсай всегда смотрел прямо в глаза, в его облике не было ничего низменного, отталкивающего, но печать все же была.
С ним, как и со всей их компанией, я не сталкивался, словом не перемолвился. Так прошло недели две или три. Убедившись, что новые обитатели барака стараются нас не задевать и ведут себя мирно, я утратил к ним всякий интерес.
После отбоя почти все укладывались спать. Дневальный умерял свет фонарей «летучая мышь», повешенных в противоположных концах барака. Вскоре в бараке становилось совсем тихо. Слышны были только дыхание спящих, иногда чей-то храп да тихие разговоры немногих присевших у стола. Затем затихали и эти разговоры — надо было отоспаться перед следующим рабочим днем.
Только теперь я доставал припрятанные в изголовье дощечки дранки, или, как ее у нас называли, финстружки и, вооружившись карандашом, принимался сочинять стихи. До Адака я успел побывать и на стройке Воркутинской железной дороги, и на лесозаготовках в районе Печоры, позднее, заболев туберкулезом легких, лежал в стационаре Ыджит-Кырта. И на трассе дороги, и на лесоповале условия были такими тяжелыми, что на какую-либо умственную деятельность не хватало ни времени, ни сил физических и духовных. От непосильного труда и постоянного недоедания люди рано или поздно доходили до полного отупения. Теперь у меня появилась возможность как-то осмыслить пережитое за два тяжелых года.
По молодости самой доступной формой казались мне стихи — мне хотелось в них выразить одолевавшие меня мысли и сомнения. Несовершенство своих писаний я болезненно переживал и никому, даже самым близким мне людям, не показывал.
Без конца чиркал я и переделывал — все было не то. Чувствовал я глубоко и серьезно, а на бумаге, вернее на дощечках, выходило примитивно, порой сентиментально. Ничего политического в моих строчках не было, да и знал я, что за любое мало-мальски подозрительное слово неминуемо грозит новый срок. Но политика еще до лагеря представлялась мне занятием малоинтересным, уделом людей жестоких, не всегда честных, либо пройдох, либо ограниченных фанатиков.
Все свои стихи я позднее уничтожил и выбросил из головы, уразумев твердо, что не все рифмованное — поэзия. Но тогда, в бараке, я не мог не писать — потребность была властная.
Осторожность в лагере нужна всегда, и по временам я зорко вглядывался в полутьму барака. Уже не в первый раз я замечал, что в эти часы не один я бодрствую. В противоположном углу на верхних нарах что-то делает, возится коренастый урка Сапсай. Тишину нарушали лишь вздохи спящих, да временами во сне начинал что-то бормотать мой сосед коми (по-здешнему «комик») Никита Истомин. Вслушиваясь в его сонный бред, я улыбался: он оживленно говорил на своем родном языке, перемежая речь российским матом, — видно, так сильнее получается.
Строчки мои все не ладятся, ломаю голову, стараясь сделать их более складными, и внезапно чувствую, что чья-то рука осторожно касается моей ступни. Вздрогнув, я посмотрел вниз — у моих нар в одном нижнем белье стоял Сапсай. Он был босиком, поэтому-то я и не расслышал его шагов.
«Сейчас шмон начнется, если что надо, давай, спрячу. У меня искать не станут, статья не та», — прошептал он. Шмоны, то есть обыски, были нередкими, искали, разумеется, свидетельства крамолы.
Передо мной стоял человек, с которым я и парой слов не перемолвился. К этому времени я уже прошел хорошую лагерную выучку, знал, следовательно, что доверяться незнакомому человеку, тем более уголовнику, неразумно и опасно. Но так спокойно, с таким чувством собственного достоинства была предложена мне эта помощь, что безотчетно, без всяких колебаний я сунул ему сложенные в стопку дощечки. Мгновение, и они исчезли за поясом его кальсон. Так же неслышно Сапсай прошел в свой конец барака, забрался на нары и затих. Странно, но я не стал долго размышлять о случившемся и почти сразу заснул.
Однако поспать не пришлось. Среди ночи меня разбудил шум — Сапсай оказался хорошо осведомленным. Двое стрелков, пришедших с лагпункта — худощавый, с рысьим взглядом коми Хозяинов и вздорный, чуть с придурью Степан Холкин, рылись в нашем скарбе. Тут же был и наш стрелок Янгаев. Как всегда, он был спокоен, усердия не проявлял, но те двое старались изо всех сил. Разумеется, ничего они не нашли, но спать не пришлось почти до утра.
После подъема мой доброжелатель осторожно вернул мне дощечки, прибавив: «Если что, прячь у меня, нипочем не найдут». Так завязалось это знакомство.
Вскоре Сапсай появился как-то вечером в кочегарке при сушильном сарае, где я работал истопником. «Что ты тогда писал?» — спросил он. «Стихи пробовал писать». — «Я так и думал. Я ведь тоже пишу. Послушай, получается ли?» И он по памяти прочел мне очень недурные стихи. Мне они показались много лучше моих. Конечно, были в них огрехи, доступные и моему неискушенному слуху, но написаны они были вполне грамотно, живым образным языком. Но главное, что в них привлекало, — выпиравшая горячая ненависть к лагерным порядкам и настоящее чувство юмора.
С этого вечера мы стали встречаться почти ежедневно в кочегарке, куда мой новый знакомый приходил сушить промокшие на лесной работе одежду и обувь. Постепенно мы сближались, с Сапсаем мне всегда было интересно. Больше всего привлекали в нем энергия, решительность и яркая, неподдельная самобытность.
Особенно бросалась в глаза его почти безоглядная смелость. Даже самые смелые из нас в обстановке постоянных доносов и страха перед новым сроком держались осторожно, постоянно были под гнетом подстерегающей опасности. Сапсаю, конечно, в этом отношении было легче; как уголовник, он был вне подозрений в политической зловредности. Он это отлично сознавал и никогда не осуждал политических за осторожность.
Постепенно все наши привыкли к Сапсаю, никого он не обижал, и его независимое и твердое поведение было оценено даже самыми подозрительными из нас. Впрочем, дружил он только со мною, по-своему ко мне привязался и был вполне откровенен.
Хотя по отношению ко мне он вел себя как старший и более опытный, заботился и опекал, но никогда не поучал и не старался напрямую оказывать влияние. Никогда и ни в чем ни он, ни я не стремились навязать друг другу свое мнение. С детства я не терпел людей, склонных поучать и направлять. Сапсай, как я сразу же понял, этого тоже не жаловал, поэтому мы с ним легко сошлись. Между такими разными людьми, какими мы были, только такая свобода общения может сохранить дружбу, и она, эта дружба, у нас была.
При первом обстоятельном разговоре Сапсай мне объяснил, что никакой он не Сапсай и вовсе не Алексей, как числился по формуляру, а Николай Николаевич Сидоров. Впрочем, случалось ему проживать и под другими фамилиями. На лагпункте все обращались к нему, употребляя «формулярное» имя — Алексей, настоящее имя, возможно, я один и знал.
Итак, был он Николай Сидоров и вырос в семье вполне добропорядочных коренных москвичей. Отец до революции был строительным подрядчиком, позднее работал прорабом. Мать вела домашнее хозяйство. В семье рос еще один сын, года на полтора младше. «Семья, — рассказывал мне Сапсай, — была обычная, трудовая, и брат у меня тихий. А я вот вырос в семье уродом, оторва был среди огольцов. Все тянуло на необычное, скучно казалось жить, как все кругом живут… Отец все на работе, мать у меня хорошая, добрая, но я ее не больно слушался, все по улицам шмонял, потом со шпаной связался… Так оно и пошло-поехало…»
Он стал профессиональным грабителем, а полем своей деятельности избрал южные приморские курорты. Действовал Сапсай изобретательно — приобрел хороший фотоаппарат, научился прилично фотографировать и каждое лето на весь курортный сезон выезжал на юг. По его словам, на заработок курортного фотографа можно было прожить безбедно, отдыхающие охотно снимались, желая увековечить себя на отдыхе. Однако фотографирование было, как выражался Сапсай, «так, для понта». Шатаясь с аппаратом по черноморскому побережью, он, не вызывая подозрений, высматривал, где можно ограбить курортников или местных жителей, и, сориентировавшись, шел на дело. Иногда он орудовал и в поездах, но делал это редко, считая, что в поезде скорее можно попасться.
Сперва Сапсай занимался этим промыслом, разъезжая по курортам в одиночку. Убежденный индивидуалист, он всегда считал, что в таких делах напарник ему ни к чему. Награбленное он тут же, на месте, сбывал верным людям. В одном доме с его родителями жила девушка, с которой он сошелся. Она стала ездить с ним по курортам и, хотя участия в грабежах не принимала, знала все. По окончании курортного сезона Сапсай и его подруга каждый год возвращались в Москву на всю зиму и жили у родителей. «Заработанного» им хватало до нового курортного сезона. Свои «зимние каникулы» Сапсай использовал для занятия рисунком и живописью в частных студиях Рерберга и Мигоноджана. «Но в таких делах всему конец бывает, — философствовал Сапсай. — Накрыли меня, с поличным взяли, шесть лет дали, и — в Свирский лагерь, на лесоповал. Ты говоришь, трудно здесь. Это что, там бы побывал; здесь прямо как у тещи в гостях, норму инвалидную сделал, и — кум королю. А там норма не здешняя, полная, на работу ведут под дудоргой, с овчарками, шаг вправо, шаг влево — считается попыткой к побегу. И порядок тот еще: пока норму не дашь, в барак не ведут, вкалывай хоть до утра в любой мороз. Понял я, что так долго не выдержу, и решил — бежать надо».
 Это был первый побег Сапсая. Бежал он в одиночку, зимой. В конце рабочего дня он укрылся в яме, сообщники завалили его ветками, и, когда конвоиры повели бригаду в лагерь, Сапсай выбрался из укрытия и стал уходить. Началась метель, и, по его словам, розыскные собаки не учуяли следа, даже близко не подошли. Сапсаю удалось уйти от погони и скрыться в лесу, однако в пути он сильно обморозил ноги. После долгих мытарств он вышел к железной дороге, добрался до избушки путевого обходчика, который приютил его и скрывал у себя, пока младший брат, военный инженер, не вывез его в Москву.
Это был первый побег Сапсая. Бежал он в одиночку, зимой. В конце рабочего дня он укрылся в яме, сообщники завалили его ветками, и, когда конвоиры повели бригаду в лагерь, Сапсай выбрался из укрытия и стал уходить. Началась метель, и, по его словам, розыскные собаки не учуяли следа, даже близко не подошли. Сапсаю удалось уйти от погони и скрыться в лесу, однако в пути он сильно обморозил ноги. После долгих мытарств он вышел к железной дороге, добрался до избушки путевого обходчика, который приютил его и скрывал у себя, пока младший брат, военный инженер, не вывез его в Москву.
После обморожения ноги долго не заживали, мать лечила его домашними средствами. Сапсай рассчитывал подлечиться и к весне уехать на юг, но получилось все иначе. Его подружка без него под давлением родственников, только теперь уразумевших, что скрывалось за поездками на курорты, успела выйти замуж. У родителей ее мужа под Москвой был дачный участок; вся семья там трудилась, заставляли работать и новую невестку. Но девица уже привыкла к привольной жизни на курортах и отвыкать не собиралась. Сапсай скрывался у родителей. С обмороженных ног сошла кожа, обнаженные участки гноились.
К родителям приходили справляться из угрозыска, но они отвечали, что сведений о сыне не имеют. Однажды подружка Сапсая явилась к родителям и, не спрашивая, вбежала в комнату, где он скрывался: «Я так и чувствовала, что ты здесь. Соскучилась, сил нет». Она хотела вновь сойтись, наотрез отказалась возвратиться к мужу и стала ночевать у своих родителей.
Кончилось тем, что муж, догадавшись, в чем дело, сообщил в уголовный розыск. Сапсая арестовали, судили за побег, добавили два года и отправили в лагерь, уже на север. Оттуда он снова бежал, добрался до Москвы и укрылся у родителей. По его словам, муж его подружки снова выследил его, они случайно столкнулись во дворе, и тут Сапсай, озлобленный первым доносом и ожидая нового, нанес в стычке ему ножевую рану, оказавшуюся смертельной. Он снова был пойман и с добавкой срока возвращен в лагерь. И снова бежал, на этот раз летом. Ему удалось уйти на несколько сот километров, однако его поймали. Очередная попытка бежать оказалась неудачной; он собрался бежать вдвоем с Карзубым, но побег тут же предотвратила охрана, причем Михаил был легко ранен.
В побегах Сапсай нажил варикозное расширение вен. По этой причине он и пошел на Адак, с такими ногами рассчитывать на успешный побег не приходилось.
Конечно, возникает вопрос: правдивы ли были эти рассказы Сапсая о себе? Не столь уж наивным я был, чтобы не задать его самому себе. Натура у него была художественная, фантазией Бог не обидел — мог и присочинить. И все же я думаю, что в основе его рассказов были действительные события. Последний побег и ранение Карзубого точно имели место — мне это сообщили люди осведомленные. Еще больше убедили меня прочитанные Сапсаем стихи — диалог между ним и его подругой после гибели мужа. По словам Алексея, такой разговор действительно состоялся. Она не верила, что муж погиб в случайной потасовке, как утверждал при встрече с ней Сапсай, наотрез отрицавший свою причастность к убийству. Я не помню самих стихов, но душевное состояние этой пары, напряженное взаимное недоверие было передано в них с такой силой, что просто придумать это было бы под силу лишь большому таланту. Вероятнее предположить, что в основе лежали реальные события.
От всех встречающихся в лагере уголовников Сапсая отличало умение трудиться упорно и целеустремленно. Обычно уголовники к такому труду питают непреодолимое отвращение.
Не таков был Сапсай. Попав на Воркуту, он пристроился техником в зубопротезный кабинет и быстро освоил эту специальность. Не теряя времени, он обзавелся набором инструментов, в мастерской стащил стенс — слепочную массу и занялся изготовлением коронок. Материалом для них служила листовая латунь, обработанная раствором сулемы. Клиентура нашлась среди вольнонаемного персонала, благо Сапсай дорого не запрашивал, а «золотые» коронки многим, особенно коми, казались красивыми. За эти художества Сапсай был изгнан из зубопротезного кабинета, но инструменты, стенс и латунь сумел сохранить.
Прибыв на Адак, он быстро освоился и нашел богатые возможности заработать своим мастерством. Вблизи Адака, на реке Усе, обосновались на зимнее время пароходчики. Они-то, в особенности их жены, стали заказчиками. Оплата была денежная и натуральная — оленина, соленая треска, консервы, махорка. Именно эти коронки обрабатывал Сапсай, когда я впервые заприметил его в нашем бараке.
Другим его промыслом была охота на белых куропаток с помощью волосяных петель. И таким делом, слишком для них хлопотным, уголовники не занимались — требовалось терпение, а его как раз у них не хватало. Сапсай был удачливым охотником, я также не без успеха ловил глупых птиц, ставя петли с приманкой из березовых веток с почками. К этому времени мы с Сапсаем так сдружились, что стали кормиться вместе. Свежее мясо куропаток не только было приятным пополнением однообразного рациона, но и спасало от цинги.
Лишних куропаток Сапсай выменивал на махорку — курил он много, — а также и на хлеб, когда его недоставало. Петли мы ставили каждый на своем участке, объезжали их после работы на самодельных широких лыжах. Невдалеке от нас стояли петли наших соседей-коми из деревни Адак. В этой части Коми деревни маленькие, обычно три-четыре двора, расположены они по берегам рек, километрах в 30 одна от другой. Хотя коми — коренные жители этих богатых дичью и рыбой мест, добытчики они неважные: петли ставят небрежно, рыбу ловят только на переметы, хотя самая добычливая здесь снасть — удочки, забрасываемые на быстрых перекатах и в верховьях небольших быстротекущих речек.
Народ они бедный, но очень честный, и чужие петли никогда не тронут. Мы тоже уважали их охотничьи участки, проезжая мимо, никогда не хищничали. Но вот однажды знакомый коми, старик Данила, пожаловался, что кто-то обирает его петли. Он дал понять, что подозревает Сапсая — его петли стояли по соседству. Сапсай сказал, что петли не трогал, но Данила ему не поверил, обещал пожаловаться начальству. Дело оборачивалось скверно — в случае жалобы нам попросту запретили бы охотиться. Сапсай стал выслеживать вора. После долгого сидения в засаде он захватил на месте нашего же зэка, молодого курда Шагин-Оглы. Его шакальи повадки не были для нас новостью.
Разозленный Сапсай жестоко избил воришку, изломал его лыжи и с отнятыми куропатками пригнал в деревню к коми. После этого наши соседи коми прониклись к Сапсаю большим уважением и всегда приветливо его встречали.
Сперва нас сблизило общее увлечение стихами, а уж потом оказалось, что во многом наши взгляды сходны. Стихи давались Сапсаю легко. Память у него была отличная, и кроме своих он нередко читал наизусть стихи известных поэтов, иногда и стихи неизвестных мне, безымянных авторов. Блатной поэзии он чуждался, во всяком случае, я от него таких стихов не слышал, хотя в лагере они бытовали, правда, всегда в песенной форме. Иные из этих блатных песен были очень выразительны и самобытны как по тексту, так и по мелодии.
Раз уж я коснулся поэзии в местах заключения, необходимо сказать о поэзии политических заключенных. Она неминуемо должна была возникнуть среди массы людей, затронутых репрессиями, слишком велики и страшны были испытанные потрясения. Даже голод, изнурительный и отупляющий труд, а главное — свирепый режим и система доносов не в состоянии были начисто истребить в людях естественное стремление выразить свои мысли и чувства.
Мне не довелось лично встретить кого-либо из лагерных стихотворцев, но в нашей среде передавались в устном виде и с большими предосторожностями воркутинские песни. Приписывались они поэту Аграновскому [1], деятельному участнику воркутинской голодовки, расстрелянному вместе с другими на Воркуте. Этих песен было несколько, все очень выразительные, но самой любимой была Воркутинская, которую приведу по памяти:
За Полярным кругом,
В стороне глухой,
Черные как уголь
Ночи над землей.
Волчий голос ветра
Не дает уснуть,
Хоть бы луч рассвета
В эту мглу и жуть!
Что-то роковое
Спряталось во мгле,
Тяжело с тоскою
Жить наедине.
Мне так часто снится
Светлое крыльцо,
Черные ресницы,
Милое лицо.
Мнится, одиноко
Дома ты не спишь,
Обо мне, далеком,
Думаешь, грустишь…
Не грусти, не мучься
И не плачь любя.
Если будет скучно,
Вспоминай меня.
За Полярным кругом
Счастья, друг мой, нет.
Злой полярной вьюгой
Замело мой след.
Других песен Аграновского моя память не сохранила. Помню только две строчки из его песни «Старик дневальный» — о старике-заключенном, коротающем в раздумье бессонную ночь в бараке у топки печи:
Кто-то топчет сапогами
Наши чувства и мечты.
Каждый понимал, о ком тут речь. Запомнились и другие стихи, посвященные ему же — «отцу, учителю и другу, светлому гению человечества» и пр., и пр. На Адаке, кроме нас с Алексеем, стихами никто не грешил. Обычно мы сходились в кочегарке при сушильном сарае, где я дежурил с вечера до утра.
Много о чем переговорили мы за долгие вечера под треск смолистых дров. Сапсай был интересным собеседником. За свою жизнь на воле и в лагерях он успел немало повидать и испытать, но больше всего привлекало меня своеобразие его суждений, всегда определенных и самостоятельных.
В лагере нам постоянно твердили, что мы здесь не просто срок отбываем, но нас, дескать, перевоспитывают трудом. Была даже должность воспитателя, ее занимали заключенные-бытовики, но не из рецидива; в большинстве их подбирали из осужденных за должностные преступления. Серенькие, безличные, они справедливо расценивали эту свою работу как синекуру, избавляющую от тяжелого физического труда. Уныло талдычили они обычную тягомотину о пользе честного труда и лагерной дисциплины. Всерьез их никто не воспринимал, а самоперевоспитание народ наш высмеивал, подчас довольно удачно.
Сапсай справедливо считал все разговоры о перевоспитании сплошным лицемерием. «Знаешь, — рассказывал он мне, — когда я еще на Воркуте был, там вовсю нас, рецидивистов, перевоспитать старались, из кожи лезли. Даже кружок литературный для нас устроили и там о перевоспитании проповедовали. А чтобы мы лучше усвоили, задали сочинение на эту тему написать. Подумал я, сел и за пару вечеров написал. Принес на кружок, прочел вслух. Воспитатель наш так и взвился — неправильно, дескать, мыслишь, отрицаешь, не признаешь перевоспитание. А написал я такое. Вроде, понимаешь, сидели в лагере двое, перевоспитывали их, вот как нас. Один перевоспитался, ну, вернее сказать, приспособился, понял выгоду, стал вести себя примерно, так что начальство на него нахвалиться не могло. Другой как был урка, так и остался. Кончился у них срок. Одного выпустили с документом, что он хороший, другого — под ж… коленкой выставили, думали, скоро все равно назад вернется.
Но на воле получилось у них по-разному. Примерный, который перевоспитался, в такие переделки попал, что на работу его нигде не берут, жить негде, отовсюду гонят. Тыркался он, тыркался и кончил тем, что снова в воры подался — кушать-то надо! Попался, и посадили по новой. А второй попал на воле в такую обстановку, что воровать ему было невыгодно, он и не стал, и зажил нормально… Все от условий зависит, — заключал Сапсай. — Выгодно не воровать — будешь жить честно, невыгодно — заворуешь, если выхода нет. В натуре так! Прочли воспитатели это и ну меня прорабатывать. Послушал я, послал их всех подальше и ходить на этот кружок не стал».
Свой принцип выгоды как основного двигателя в поведении человека Сапсай постоянно отстаивал.
Был он жаден до новых впечатлений, очень любознателен и восприимчив, в любом случае, в любом положении умел уловить существенное, характерное, с тем, чтобы осмыслить и по возможности применить в жизни. Кем он только не был на воле и в лагере: и скотником, о чем он рассказывал с большим юмором, и фотографом, и зубным техником, и на шахте успел поработать.
Поражали быстрота и сила его реакции. Как-то вечером, сидя в кочегарке, мы разговорились о людях, стремящихся перестроить жизнь, о религии, о революции. Я рассказал Сапсаю о книге Анатоля Франса «Боги жаждут». Ее я прочел незадолго до ареста. Еще тогда меня поразила мысль, заложенная в основу романа: революционные идеалы — та же религия, такая же фанатичная, как старые верования, но еще более бесчеловечная, поскольку еще не упилась кровью. И гибель главного героя, честного, слепо верующего в революцию фанатика, — закономерное очищение от жестокости и фанатизма во имя жизни, продолжающейся во всей своей полноте.
Пройдя жестокую тюремную выучку, после всех пережитых потрясений я еще больше склонялся к идеям Франса. К тому же лучшие из тех участников революции, которые повстречались мне в тюрьме и в лагере, не скрывали своей горечи и разочарования после разгрома 30-х годов.
Мы с Сапсаем рассуждали о том, как тяжело и несправедливо складывается судьба отдельного рядового человека в эпохи великих потрясений. Обидно было сознавать, что мы лишь жертвы, не лучше рабов, сооружавших пирамиды во славу фараонов. Я прочел свои стихи, навеянные этими мыслями. Сапсай слушал внимательно, молчал. Потом вдруг заторопился и ушел в барак раньше обычного. На следующий вечер он в кочегарку не пришел. Зато через день Алексей появился снова.
— Знаешь, — сказал он мне, усаживаясь на скамейку у топки, — я все думал о книге, что ты мне пересказал. Думал, ворочал в башке все это и вот написал. Сейчас прочту, это к тебе, ну, в общем, тебе посвящается. — Он вытащил из-за пазухи телогрейки дощечки и начал читать:
Осенний день, по небу бродят тучи
И стаи птиц уносятся на юг.
Я этот стих писал на всякий случай,
Чтоб ты прочел, товарищ мой и друг.
Прошли года, мы сделались покорней,
Познали грусть нехоженых дорог;
Пусть взгляды наши изменились в корне,
Но каждый что-то вынес и сберег.
И то, что нам диктует Провиденье,
Сидящее на троне иль в Кремле,
Пройдет как сон, как страшное виденье,
И, растворясь, исчезнет на земле.
Из наших мук возникнет вновь Ученье,
Прольется кровь в растоптанную грязь,
Пройдет свой круг ошибок и свершений
И вновь исчезнет видоизменясь.
Концовку стихов уже не помню, но смысл был такой: что бы ни происходило, как бы ни было тяжело, жизнь вечна, прекрасна, она продолжается… «Цветут цветы и шепчут о любви».
Не одно и не два стихотворения Сапсая выслушал я в вечерние часы, когда мы с ним сидели вдвоем у топки, как бы поднявшись мысленно над гнетущим однообразием лагерных будней.
Стихи эти по тематике и настроению неизменно возникали из напряженного осмысления нашей лагерной жизни, да и не только лагерной. Иногда попадали нам в руки газеты с набившими оскомину призывами к всеобщей бдительности и беспощадной борьбе с врагами народа. Тут же печатались указы за подписями Калинина и Горкина. Однажды Сапсай прочел мне свою стихотворную пародию на указ с заклинаниями о бдительности (у нас в это слово после буквы «б» вставляли «з»). Запомнилась мне лишь одна концовка:
К врагам народа
Пребудьте зорки.
Калинин. Горкин.
Зато целиком сохранилось в моей памяти его стихотворение «На смерть коня Донбасса», посвященное чрезвычайному происшествию в жизни кирпичного завода: пал темно-рыжий мерин Донбасс. Причиной его гибели, как показало вскрытие, было прободение желудка от плохо пропаренного веточного корма.
Гибель лошади подчас беспокоила лагерное начальство, да и нас, грешных, много больше, чем смерть человека. Человек — он умирал, и все, а вот гибель лошади могли запросто подвести под статью о вредительстве. Тогда затевалось следствие, отыскивали виновного (начальника из зеков, возчика либо конюха), и дело могло кончиться новым сроком, в лучшем случае — карцером.
В это время начальником кирпичного завода был Григорий Михайлович Днепров. До лагеря он работал прокурором Бауманского района Москвы. Эгоистичный и трусливый, Днепров, дорвавшись до начальственной должности, сумел озлобить всех занудством и мелочными придирками. В кирпичном производстве он ничего не смыслил, зато ретиво взялся за дисциплину. Большую часть дня он простаивал на самом возвышенном месте, зорко высматривая, кто чем занят, и учинял потом разносы. На своем сторожевом посту Днепров стоял, широко расставив кривые ноги, за что получил прозвище Кронциркуль.
Постоянно стараясь выслужиться, Днепров всячески притеснял таких же, как он, заключенных. Последнее, что он придумал, было запрещение использовать лошадей для подвозки дров и воды в бараки, возмутившее всех на заводе.
Истый рецидивист, Сапсай ненавидел Днепрова как бывшего прокурора и вдобавок презирал как подхалима и перестраховщика. Все на заводе гадали, как и на ком отзовется гибель коня. Днепров явно приуныл — могли наказать и его. О таком исходе, не скрываясь, мечтали многие.
Вечером в кочегарку Сапсай пришел в приподнятом настроении с написанным стихотворением «На смерть коня Донбасса». Вскоре оно стало известно всем на заводе.
На берегу пустынных вод
Стоял завод кирпичный.
Народ в заводе — как народ,
Измучен был отлично.
Умел сносить он все без слов,
Боялся дел запретных.
И был начальник там Днепров,
Фигура из приметных.
И был там конь…
Он сох и сох –
Знать, корма было мало.
И думал он, пока не сдох,
Что труд есть дело славы,
Что жить на свете — ничего,
Хвалил и кнут, и палку.
И так текло, пока его
Не вывезли на свалку.
Днепрова мигом пот прошиб,
Возвел он очи в гору.
Недаром в прошлом этот тип
Был где-то прокурором.
Он ходит, голову склоня,
И грусти есть причина –
Он увидал в конце коня
Конец блатного чина.
Чтоб оттянуть чуть-чуть свой крах,
Назло всему народу
Мудрец придумал на людях
Возить дрова и воду.
Он вспомнил прошлые лета –
Мысль бродит у героя
Над примененьем хомута
Особого покроя.
Судить людей я лютый враг,
Но злые мучат мысли.
К тому ж я слышал, что в Адак
Как выродок он прислан.
От этих дел добра не жди,
Одна грызет забота –
Глядишь, и выдвинут в вожди
Большова, идиота.
Без пояснений здесь не обойтись. Нам без конца твердили, что в лагере нас всех изучают. На Адак свозили актированных по болезни, неполноценных людей. По домыслу Сапсая, Днепров попал сюда «как выродок». Упоминаемый в концовке Большов был бригадир, духовный двойник Днепрова и возможный кандидат на его пост. Впрочем, наши чаяния не сбылись — коня зарыли, а Днепров удержался на своем месте.
Независимый и резкий, Сапсай, естественно, не пользовался расположением начальства. Ядовитые выпады подчас доводили Алексея до штрафного изолятора, но это его не смущало и не останавливало. Однажды заключенные пожаловались начальнику лагпункта Манину на плохое питание. Манин, крупный рыхлый мужчина, благодушно улыбаясь, ответил: «Еще что? Питание хорошее, с него скоро за бабами бегать станете». Случившийся тут же Сапсай мгновенно отрезал: «Да, конечно, чтобы у них баланду и кашу отнимать».
К весне у меня обострился процесс в легких. Поднялась температура, одолевал мучительный кашель, но я старался держаться на ногах и к врачам не шел. Моим лечением занялся Сапсай. Однажды после работы он подал мне угощение — суп с мясом. Мясо было нежирное и довольно вкусное, таким в лагере нас не кормили. Когда я с ним расправился, Сапсай спросил: «Угадай, чье это мясо?» — «Оленина, — отвечал я, — что, за коронки дали?» — «Гав-гав, — с довольным видом ухмыльнулся Сапсай. — Щенок. Ездил со шнягой в Адзьву, там законстролил. Ешь, это тебе полезно. У меня еще на завтра осталось».
Щенячье мясо, однако, не помогло. Пришлось ложиться в стационар. Было там очень тоскливо, поэтому я обрадовался, когда Сапсай пробрался ко мне с гостинцами — сахаром и конфетами. «Давно бы к тебе пришел, да вот не получилось: меня комендант по дороге перехватил, придрался, гад, зачем я в стационар иду. Я его послал подальше. А он на меня рапорт Манину подал. Тот меня вызвал и давай песочить: кому продукты несешь, где взял? Я отвечаю, что к тебе иду, а конфеты на махорку выменял. Начальник тут еще пуще завелся: что это, говорит, у тебя за дружба с 58-й статьей, что у вас общего? Тут меня заело, я ему — мое дело, с кем хочу, с тем вожусь, я в лагере норму даю, и лады, больше нечего меня воспитывать. И конфеты не ворованные, на заработанную махорку сменял. Я не ворую и морду не наел, как некоторые. Он меня — в кондей. Только хрен ему, будет еще указывать, с кем водиться».
Вскоре началась война. Режим даже на отдаленном инвалидном лагпункте резко ужесточился. Отменили переписку с родными, участились поверки, внезапные обыски по ночам. Немногочисленные доносчики подняли голову и стали кляузничать, их часто вызывали к оперуполномоченному; по их указке несколько человек попали под следствие. О ходе военных действий мы ничего толком не знали, пользовались неясными слухами. Ходили разговоры о том, что немцы захватили большие территории. Многие, в том числе и я, опасались за родных, которые могли оказаться в опасности. Хотя большинство из нас были слабыми, больными людьми, многие — инвалидами, нашлось бы немало желающих уйти в армию на защиту страны. Однако нас, политических, не брали.
Неугомонный Сапсай рассуждал: «Лучше уж на фронт, чем здесь заживо гнить. Мы, рецидив, для войны самые подходящие люди. Нам только скажи: вот крепость, берите ее, а там все ваше, — горы своротим, а возьмем!» Зная его решительность и смелость, думаю, что, попади Сапсай в армию, он мог бы проявить эти свои качества в полной мере. Но и его не брали.
Вскоре из нашей среды стали собирать этап на одну из строек; отбирали тех, кто был физически покрепче. Среди отобранных оказался и Сапсай. Уже в который раз я расставался с близким мне человеком — обычное дело в лагерной жизни. Больше о Сапсае я ничего не знаю.
И вот теперь, через много лет, оглядываясь на прожитые годы, я понимаю, что этот рецидивист, человек без систематического образования, без специальности, среди многих встреченных в лагере незаурядных людей был одним из наиболее ярких и самобытных. Но даром пропали в лагере его способности, осталась без достойного применения его кипучая энергия. И сколько еще таких сгинуло без следа…
[1] Фамилия указана неточно. Автор этой песни Лев Драновский, содержался на Воркуте на кирпичном заводе, расстрелян 1 марта 1938.
Источник: Рубанович Виктор. Адрес – лагпункт Адак: автобиографическая проза. М.: Возвращение, 2011. с.139 -157. (Тираж 2000 экз.)