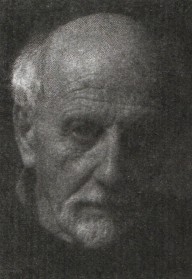Поездка в Лефортово
Я родился в 1916 году в Москве. Детские годы прошли на Украине в Чернигове в семье моей матери, туда она возвратилась со мной навсегда, расставшись с моим отцом. В Чернигове я окончил семилетнюю школу, затем родители договорились между собою, и для продолжения образования меня отправили в Москву к отцу. Сперва я поступил в строительный техникум, потом перешел на рабфак, окончил его и по конкурсу в 1935 году поступил в Московский архитектурный институт. В апреле 1937 года я был арестован по обвинению в участии в мифической «террористической организации студентов института». Дело рассматривала Военная коллегия Верховного суда, там оно не прошло — отправили на доследование. Но никакого доследования не было, и через месяц решением Особого совещания я был осужден на 5 лет лагерей по статье КРД и отправлен в Воркутпечлаг (Коми АССР). Сначала я попал на строительство железной дороги Усть-Вым — Чибью. Там надорвался и заболел, и меня с трассы увезли. Лечить не стали, и я после ряда мытарств пешим этапом (400 км) был отправлен на лесозаготовки в районе реки Печоры. Там весной 1938 года тяжело заболел, после кровохарканья попал в стационар, затем, как актированный инвалид (туберкулез легких), был отправлен на инвалидный пункт Адак у Полярного круга. На Адаке я пробыл более трех с половиной лет, вплоть до освобождения в 1942 году.
***
С тех пор как меня с Лубянки перевели в Бутырскую тюрьму, следователь, казалось, позабыл о моем существовании — меня не допрашивали больше месяца. И вот вечером, перед самым ужином, меня неожиданно вызвали. Без вещей, это означало — на допрос. Выходя из камеры, я настраивал себя на малоприятную встречу с человеком, которого успел возненавидеть, как никого до сих пор.
Со времен первого допроса я многому научился. Тогда я, как почти каждый попавший сюда впервые, был убежден, что произошло какое-то недоразумение, очень досадное, конечно, но все выяснится, меня отпустят и все пойдет по-прежнему. Больше всего меня беспокоили два обстоятельства: как бы до моего выхода отсюда не вздумали написать в Чернигов матери и зря ее обеспокоить, и еще я переживал, что сидя здесь, в тюрьме, я пропущу занятие по рисунку в институте. Накануне ареста наш строгий преподаватель, доцент Кроянский, до этого часто ругавший меня «сезаненком» (он был строгий классик, ученик Кардовского) или демонстративно проходивший мимо моего рисунка, вдруг не только похвалил меня, но подарил французскую сангину — это было у него высшее поощрение. Поэтому так обидно было пропускать очередное занятие.
Следователь, старший лейтенант Тительман, ярко-рыжий веснушчатый человек лет тридцати небольшого роста с малинового цвета шеей и серыми с красноватым оттенком глазами, чем-то напоминавший злую крысу, с первых слов начал запутывать, выворачивая наизнанку мои высказывания, подкинутые неизвестными мне осведомителями. Во всем, что мне приписывалось, с моей точки зрения, ничего антисоветского не было: я никогда не думал, что мое возмущение местными властями, которые ничем не помогли голодавшим в 1932 году на Украине крестьянам, да еще восхищение героизмом Каляева после того, как довелось прочесть книгу Бурцева « Как я разоблачил Азефа», — контрреволюция. О голоде на Украине знали и говорили все, а книгу Бурцева только что издали.
Между тем Тительман обвинял меня не просто в контрреволюционных высказываниях, а в участии в некоей террористической организации студентов нашего института. С теми, кто по этому делу привлекался, я не дружил, ни я у них, ни они у меня дома не бывали, у третьих лиц мы не встречались. Никаких высказываний от этих ребят, студентов параллельной группы, я никогда не слышал. Единственной зацепкой было мое выступление на собрании нашего курса, когда очень слабо учившаяся студентка обвинила одного из тех, кто позднее был арестован, в том, что тот отказался ей помогать, да еще якобы одобрял отрицательный отзыв писателя Андре Жида о советской молодежи. Я только и сказал, что не следует под свои личные обиды подводить политику.
В таком роде я и отвечал следователю, но он, составляя протокол, извращал буквально каждое слово, писал, что я признаюсь «в восхвалении эсеровского террора как метода борьбы против советской власти» (это о Каляеве). Такую галиматью я подписать отказался.
— А вот и видно, что ты антисоветски настроен, раз мне, следователю, представителю советской власти, не доверяешь.
Я ответил, что доверять доверяю, но ведь записано все неверно и подписать такое не могу. Он долго меня уламывал и, убедившись, что я подписывать не стану, сделал вид, что идет на уступки.
— Ты, — сказал он, — порядка не знаешь. Протокол подписать ты обязан, а в чем не согласен, пожалуйста, имеешь право оговорить, подпиши и ниже припишешь свои оговорки.
Тогда мне, 20-летнему, и в голову не приходило, что советский следователь способен меня обмануть; я поставил свою подпись и тут же собрался по пунктам приписать все мои возражения, но Тительман ловким движением выхватил протокол из моих рук.
— Ничего тебе я не дам писать, здесь я решаю, что можно и что нельзя.
— Тогда, — отвечал я — отказываюсь от показаний, буду писать жалобу наркому и прокурору Союза.
— Можешь писать, все равно через меня пойдет, — спокойно отрезал следователь.
В тот же день я потребовал бумагу и написал заявление, где изложил всю эту историю и настаивал на своей невиновности. После этого меня неоднократно допрашивали Тительман и второй следователь, грубый крикун Радченко, то угрожая, то задабривая, но я им уже ни в чем не верил и одно твердил, что требую их отстранения и отвечать не стану. Вызывали на допрос чаще по ночам. В последний раз, когда меня сонного привели в кабинет Тительмана и я снова отказался отвечать, он, ухмыляясь, сказал:
— Я только хотел посмотреть, как ты сейчас выглядишь.
И тут же приказал увести.
«Теперь, очевидно, снова попытается допрашивать», — думал я, следуя по коридору в сопровождении конвоира.
Внутренне я собрался и решил ни на один вопрос следователя не отвечать — это, по убеждению всех сидевших в камере, была наилучшая тактика, ее мы и усвоили здесь.
Сопровождающий завел меня в небольшое помещение. Стены его на высоту человеческого роста были облицованы зеленоватой плиткой. У стены стоял небольшой столик, рядом с ним табуретка, на столе — чернильница-невыливайка. Здесь меня и оставили.
Я ожидал, что теперь, как это водилось, обыщут, затем погрузят в воронок и увезут на допрос. Однако получилось по-иному. В помещение вошел какой-то чин в форме, спросил фамилию и, услышав ответ, положил на стол бумагу с отпечатанным текстом. Затем, бросив «ознакомьтесь и распишитесь», вышел. Дверь за ним заперли, я тут же взял в руки листок и обмер, прочитав первые строки: «Обвинительное заключение», выше — «Утверждаю» и подпись «Вышинский». Обвинялся ни много ни мало в участии в террористической организации, и дело передавалось в Военную коллегию Верховного суда СССР. Все якобы было доказано следствием и подтверждено показаниями обвиняемых. Я сидел подавленный, вернее, раздавленный сознанием полной беспомощности перед этой чудовищной ложью.
Особенно поражала подпись Вышинского: до сих пор, хоть я еще на Лубянке слышал от Владимира Ивановича Невского самые резкие отзывы об этом человеке, в моей голове, и не только в моей, не укладывалось, как может прокурор Союза, высший блюститель законности в стране, утверждать такие нелепые обвинения. Через некоторое время дверь отворилась:
— Ознакомились? А подпись?
— Здесь все ложь! Подписывать не буду!
В ответ чин разъяснил:
— Вы подписываетесь только в том, что прочли обвинительное заключение, это формальность, а оспаривать его вы сможете в судебном заседании.
Мне уже было все равно, я расписался и в полном отчаянье остался один. К счастью, почти сразу за мной пришли, и вскоре я уже входил в свою камеру.
Как все-таки хорошо было после пережитого вновь оказаться среди людей, с которыми за эти два месяца я успел сблизиться. Хотя и они были в таком же положении, а некоторым «шили» дела еще более чудовищные, все, узнав, в чем дело, окружили меня, старались поддержать, успокоить, помочь собраться с силами. Наш первый авторитет по судебным делам, бывший член Верховного суда Украины Мулявко, разъяснил, что по закону судить меня могут не ранее, чем через неделю, советовал по возможности спокойнее обдумать свою защиту, говорил, что Военная коллегия — инстанция серьезная, осудить может только при убедительных доказательствах вины, а раз их нет, нечего отчаиваться.
Не скрою, не столько эти аргументы, сколько доброжелательность и дружеская поддержка помогли мне овладеть собою, и на следующий день мне было много легче. После завтрака мы с майором Фадеевым устроились у стола, я слушал его спокойные обстоятельные советы, как лучше держаться на суде, тут же сидел и Мулявко, сиплым басом вставляя свои замечания. Неожиданно дверь камеры отворилась, вошел коридорный и, заглянув в бумажку, вызвал меня с вещами. Ясно было, что ухожу насовсем, со мною прощались, пожимали руки, желали, чтобы все обошлось. Напоследок мы с Фадеевым обнялись и расцеловались.
Из камеры меня увели в какую-то каморку, там наспех обыскали. Затем я очнулся в одном из внутренних дворов, где уже стоял наготове фургон — точное подобие машины для развозки хлеба. По приставленному трапу сопровождающий завел меня в машину и запер на ключ в одной из кабин, устроенных по обе стороны узкого прохода. Кабина была тесная, я с трудом устроился и, сидя в полной темноте, стал прислушиваться. Вслед за мною еще кого-то запирали в соседние кабины, все это молча, так что понять, кого везут, мне не удалось.
Вскоре заработал мотор, послышался скрип открываемых ворот. По шороху бесчисленных колес, гудкам автомобилей и сливавшимся в неясный гул человеческим голосам я понял, что фургон выехал на московские улицы.
Во дворе я успел заметить, что день выдался чудесный, жаркий и солнечный, какие я особенно любил. В моей кабине сразу стало душно, с первых минут не хватало воздуха, я задыхался. Иногда на пересечении улиц фургон останавливался, тогда уличный шум становился явственнее, и это волновало меня, еще сильнее подчеркивало насильственное отчуждение от кипевшей рядом жизни. Мне мерещились залитые солнцем улицы и на них — толпы людей в легкой светлой летней одежде, веселых, оживленных, свободных, не ведающих, что вот здесь, совсем рядом, я в темной тесной кабине, мокрый от пота, задыхаюсь, и везут меня неизвестно куда.
Ехали долго, казалось, что мне не выдержать этой духоты, но вот машина затормозила, послышались переговоры, звук открываемых ворот. Проехали еще немного, наконец, двери фургона отворили, я услышал, как отпирают кабины и поодиночке выводят людей. Пришлось порядочно прождать, пока пришел мой черед.
Сопровождающий передал меня невысокому молодому солдату, и он, указав направление, пошел вслед за мной по двору в один из корпусов. Вскоре я оказался в небольшом помещении, точно таком же, как в Бутырках, только без столика и чернильницы, здесь солдат и оставил меня. Сидя на табурете, я старался понять, где нахожусь. Ясно, что сюда меня поместили на время, наверное, солдат пошел узнать, в какую камеру меня определят. Ждать пришлось недолго. Дверь приотворилась, показался тот же солдат — тут я рассмотрел его внимательнее. Он был примерно мой ровесник, худенький, невзрачный, снетловолосый, с добродушной полудетской физиономией. И разглядывал он меня с неподдельным любопытством.
— Где я?
— В Лефортове. Жарко, небось, умыться хочешь?
Еще бы, после поездки в кабине я взмок, тело и особенно лицо саднило от пота.
— Хочу, только полотенце надо взять.
Он подождал, пока я достал из мешка свое полотенце, потом по коридору повел меня мимо большого помещения, оттуда густо пахло горячими блюдами, мелькали фигуры женщин в белых халатах и шапочках. Солдатик привел меня в небольшую комнатку с умывальником, очевидно умывальную при кухне.
— Вот, мойся, — и он придвинул ко мне кусок туалетного мыла.
Я разделся до пояса и с удовольствием начал умываться. Сразу стало легче. Пока я обтирался, солдатик с улыбкой смотрел на меня, не торопил. Когда я вернулся, он сперва прикрыл за мной дверь, но через пару минут заглянул снова.
— И долго мне здесь быть? — спросил я.
— А до суда уже скоро.
Сначала я не понял. Как? Суд? Когда же он будет?
— Да он уже идет, много вас привезли сегодня!
Я ошалело смотрел на него. Как же так, ведь со слов Мулявко я считал, что до суда еще целая неделя, а тут суд уже идет! Первым чувством, которое я в этот момент испытал, было отчаяние — кругом ложь, одна ложь, я ощутил себя чем-то вроде щепки, которую подхватил страшный, неумолимый в своем стремлении поток и тащит куда-то туда, где один исход — погибель. И самое тяжелое — чувство вины перед матерью, все ее надежды в жизни были связаны со мной, ни в какой контрреволюции я не виноват, а перед мамой виноват уже тем, что я здесь, это чувство вины мучило меня с первого дня ареста. Здесь, в Лефортове, оно было невыносимо. Все, конец всем надеждам! Безнадежное отчаяние овладело мною, овладело безраздельно.
Спустя некоторое время мне все же удалось взять себя в руки. Что я погиб — нет сомнения, остается как-то собраться с силами и держаться достойно — так я решил для себя. Сейчас, через долгие годы, оглядываясь на прошлое, я думаю, что спустя некоторое время отчаяние вновь, и возможно еще сильнее, завладело бы мною, если бы не солдатик, все это время молча глядевший на меня. Наверное, уже не впервые видел он здесь оторопевших от неожиданности людей.
Он стоял рядом, не уходил из кабины, наконец, заговорил, и звук его голоса вывел меня из оцепенения:
— Может, ты поесть хочешь?
Голодным я не был, и не до еды здесь было, но, напряженный до предела, столько сочувствия услышал в его тихом, приглушенном до шепота голосе, с такой неподдельной заботой предлагал он единственную посильную для него помощь, что неожиданно для себя я как бы очнулся и даже обрел способность рассуждать — что будет, то будет, сейчас надо собрать все силы, успокоиться, не скиснуть — и ответил:
— Хочу.
— Сейчас… Есть каша, хорошая каша.
Он прикрыл дверь, я услышал торопливые шаги. Вскоре солдатик вернулся с большой алюминиевой миской, в ней до краев была густая пшенная каша, обильно политая маслом.
— Вот, давай ешь, каша, хорошая каша, — повторил он, протягивая ложку.
Я уселся и зачерпнул — каша и впрямь была хороша. Это незатейливое блюдо я любил с детских лет. Я уплетал кашу, солдатик, улыбаясь, стоял рядом.
— Вкусная? — спросил он.
Я кивнул. Когда я прикончил миску, он спросил, надо ли еще, но я уже был сыт по горло. После каши солдат принес еще чаю, его я выпил с удовольствием.
Странно, как подчас успокоительно действует на человека то ли сытое состояние, то ли сам процесс принятия пищи. Еще полчаса назад я был в совершенном отчаянии, убитый, растерявшийся донельзя. Теперь я почувствовал решимость, какой до этого за собой не знал. Но суть моего преображения была, разумеется, не в пище, не в каше этой вкусной, а в той волне человеческого сочувствия, чистого, неподдельного, которая дошла до меня от невзрачного, худенького солдата и подняла, вырвала меня из бездны отчаяния. И он, этот солдат, сумел остаться таким не где-нибудь, а здесь, в страшной Лефортовской тюрьме, о которой мы в Бутырках слышали только самое плохое.
Теперь надо было подготовиться к суду, не выглядеть там растерянным — этим я и занялся.
— А можно мне снова окатиться? — спросил я у солдатика.
— Почему нет, давай, собирайся.
Снова он отвел меня в умывальную, там я умылся, сменил на новую свою пропотевшую майку, как мог пригладил мокрые полосы. После этих приготовлений я почувствовал, что готов спокойно встретить все, что предстоит. Вскоре за мной пришли двое вооруженных конвоиров и увели меня. Один пошел впереди, за ним — я, шествие замыкал второй конвоир. Мой узелок остался в комнатушке.
Меня привели в довольно большое светлое помещение. В торце его на возвышении я увидел покрытый скатертью судейский стол, стулья, а за стульями — дверь, из которой, как я понял, должны были появиться судьи. В зале тоже были расставлены ряды стульев, конвоир молча указал на место в середине первого ряда, я сел, по обе стороны встали конвоиры.
Кроме меня и двоих солдат в помещении никого не было, и это меня удивило. Один из моих дядей был адвокатом — чаще в ходу было слово «защитник», мне всегда оно было ближе. Мой дядя был одним из лучших защитников в городе, дело свое любил. Из его рассказов я составил представление о зале суда, заполненном публикой, а здесь я один да еще два солдата. Странно…
— Встать, суд идет!
Из двери, замеченной мною, поочередно выходили трое судей, за ними секретарь с папкой в руках, все военные. Потом из этой же двери появились еще несколько человек в штатском. Судьи заняли места за столом, рядом — секретарь, для штатских были приготовлены стулья слева от судейского стола.
— Военная коллегия Верховного суда СССР в составе… — секретарь отработанной скороговоркой зачитывал обвинительное заключение.
Я смотрел на судей — все средних лет, в центре председатель, темноволосый с аккуратно расчесанным пробором, слева от него — худощавый с сухим лицом и копной густых волос, не то седой, не то альбинос, третий член суда мне и вовсе не запомнился. Их фамилии, зачитанные секретарем, как-то ускользнули, не услышались; видно, все мои силы пошли на самонастройку.
— Признаете себя виновным?
— Не признаю.
Председатель, заглянув в разложенные перед ним бумаги, задал вопрос:
— Как же, на следствии вы не отрицали то-то и то-то.
— Я не отказывался от того, что говорил, но во всем этом не было ничего враждебного, а следователь записывал, искажая каждое мое слово, и подпись получил обманом.
Тут я подробно описал ход следствия и добавил, что поэтому в заявлениях на имя прокурора Союза и наркома эту подпись не признаю. Что же касается террористической организации, не имею о ней ни малейшего представления.
— Наверное, вас в камере учили отказываться от показаний? С кем вы сидели, и кто вас учил? — задал вопрос председатель.
— Я сидел со многими, среди них были старые члены партии — Владимир Иванович Невский, член Верховного суда Украины Мулявко и другие, но никто из них меня не учил, в тюрьме каждый отвечает за себя. Я ни в чем не виноват, а следователь только и старается оклеветать меня. Я настаивал на следствии и здесь прошу — пусть выступят те, кто на меня доносил, и я в лицо уличу их во лжи.
До этого лица судей были непроницаемыми, но при упоминании фамилии Невского и особенно Мулявко на какое-то мгновение это выражение как бы смазалось, едва заметное движение прошло по ним — только на миг, держать себя в руках они умели…
Но так натянуты были в этот момент мои нервы, что я эту мимолетную перемену уловил, как и движение, тоже еле заметное, среди людей в штатском — похоже, что до этого и они не знали, где сейчас их коллега Мулявко.
Тут же председатель обратился ко мне:
— В обвинительном заключении указано, что вы восхваляли эсеровский террор как метод борьбы против советской власти. Вы и это отрицаете?
— Ничего подобного не говорил, и говорить не мог. Речь шла о впечатлении от книги Бурцева и конкретно о Каляеве, который не стал бросать бомбу в карету губернатора Москвы и, рискуя жизнью, отложил покушение только потому, что в карете были жена и дети. Если восхищение Каляевым за такой поступок это пропаганда эсеровского террора, то этак можно обвинить и Моссовет — я сюда привезен из Бутырок, а там рядом улица Каляева, — закончил я.
В таком же духе отвечал я и на другие вопросы, казалось, что слушают меня внимательно, и чем дальше, тем вроде сочувственнее. На вопрос, неужели я считаю, что никакой террористической организации в нашем институте не было, я ответил, что именно так и считаю, что ни от кого из обвиняемых по этому делу ничего антисоветского не слышал, нигде, кроме института, с ними не встречался, даже с ними не дружил.
— К тому же, — добавил я, — в обвинительном заключении вождем организации назван студент, которого и я, и другие считали недалеким горлопаном, остальные — ребята способные и умные, он никаким авторитетом не пользовался, какой же это «вождь»! Не верю в такую организацию.
На это мне ничего не ответили. Я ожидал, что после моих объяснений допросят свидетелей, а затем выступит прокурор с подтверждением обвинений. Но вместо этого мне неожиданно предоставили последнее слово.
Пока шло заседание суда, я, как ни странно, не испытывал того страха за свою судьбу, который до этого лишь подавлял в себе. Наоборот, я был почти спокоен и держался свободно, очевидно, нервы напряглись до предела, это и раскрепостило меня.
Суд удалился на совещание, я остался сидеть на своем месте почти удовлетворенный — что хотел сказать, было сказано. Судьи совещались недолго, никакого томления в ожидании приговора я испытать не успел. Раздался возглас: «Встать, суд идет!» Снова вошли судьи, заняли свои места. Председатель, глядя на меня, объявил:
— Военная коллегия… постановила направить дело на доследование.
И тут я почувствовал, как все же был до этого напряжен — как-то сразу отлегло, и меня хватило только на одно слово: «Спасибо».
Судьи удалились, конвоиры в том же порядке повели меня назад в каморку. Там уже ждал солдатик — «мой солдатик», как мысленно его называл. Если до суда он был весь сочувствие, то теперь вид его выражал прежде всего напряженное любопытство. Он придвинулся вплотную к одному из конвойных и что-то шепнул, тот ответил, тоже шепотом. Меня ввели в каморку, дверь закрылась, но тут же, едва стихли шаги уходивших конвоиров, солдатик приоткрыл ее, заглянул и, сделав огромные глаза, прошептал:
— Ну, что?
— На доследование отправили, — отвечал я тоже шепотом. Очевидно, он хотел от меня услышать подтверждение того, что узнал от конвоира.
— Ну, хорошо, это здесь редко, почти всех осуждают, — на лице его я прочел нескрываемое облегчение. — Теперь отпустить должны, — добавил он.
Я в этот момент думал так же; солдатик с довольной улыбкой смотрел на меня, и мне с ним было хорошо, хотя мы оба замолчали.
Через некоторое время меня погрузили в тот же фургон. Было уже темно. Вскоре я оказался в Бутырках, и после довольно небрежного обыска вошел в свою 25-ю камеру почти как в дом родной. Там уже не надеялись увидеть меня вновь. Мое появление всех удивило. Уже с порога, не дожидаясь вопросов, я выдохнул: «Суд был. Послали на доследование». Начались расспросы. Я рассказывал, стараясь ничего не упустить. Настроение у всех в камере было приподнятое — значит, все же не верят следователям, стараются разобраться. У людей, задерганных на следствии, испытавших весь ужас внезапного перехода в разряд отверженных, не умирала надежда на справедливость. Проговорили до поздней ночи… Наш судейский корифей Мулявко сказал, что, судя по моему описанию, один из штатских на суде был заместитель Вышинского Леплевский.
— Теперь ожидай спокойно - доследуют, и выйдешь на волю, — добавил он.
И, наверное, впервые за три с лишним месяца я заснул, веруя, что, наконец, окончится весь этот кошмар.
Теперь, спустя много лет, вспоминая события этого дня, я неизменно думаю, какими наивными, легковерными мы тогда были — и я, мальчишка-студент, и умудренный опытом бывший политкаторжанин, а позднее — член Верховного суда УССР. Ведь тех, кого не удавалось осудить, пропускали через особое совещание: «Слушали — постановили».
А еще я думаю о солдатике — маленьком, невзрачном, сохранившем чувство подлинной человечности там, где этому чувству, казалось, вовсе нет места. Что с ним стало, уцелел ли в последующие бурные годы? Очень бы хотелось в такое верить. Но уж узнать мне не дано…
Источник: Рубанович Виктор. Адрес — лагпункт Адак: автобиографическая проза. М.: Возвращение, 2011. с. 38-49. (Тираж 2000 экз.)