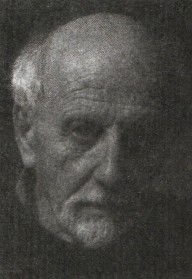Братья-иностранцы
В начале тридцатых годов я учился в Москве на рабфаке имени Свердлова. Помещался рабфак в одном из переулков, выходивших на улицу Кропоткина, которую москвичи по старой памяти продолжали называть Пречистенкой. Рабфак этот был одним из первых, созданных в стране для обучения рабочей молодежи, многие преподаватели работали здесь со дня основания, среди них были замечательные люди, увлеченные своим делом.
Большинство учащихся совмещали учебу с работой, здесь были рабочие, техники-практики, кое-кто из служащих. Среди рабфаковцев было немало людей семейных, не у всех была достаточная подготовка, но учились старательно, с большой охотой. Я был одним из самых младших. Наша группа считалась самой лучшей на рабфаке. В общем, хвалили нас не зря: была хорошая взаимопомощь, сильные помогали слабым, те, в свою очередь, трудились изо всех сил, стараясь усвоить учебный материал.
Однако в 1933 году произошло событие, отодвинувшее нас на второй план, — на рабфаке была создана группа шуцбундовцев. Так назывались политэмигранты из Австрии, участники вооруженного восстания рабочих; после его подавления многие шуцбундовцы бежали из страны и оказались у нас в Союзе. Это были молодые парни, крепкие, энергичные, жизнерадостные.
За учение они взялись с большой охотой и вскоре по успехам намного превзошли нас. Обучались шуцбундовцы на родном языке, одновременно изучали русский. С ними работали наши преподаватели, они нередко ставили австрийцев нам в пример, всячески подчеркивая их старание и успехи. Может, именно поэтому мы не стремились общаться с ними, а наши девушки только хихикали, глядя на «австрияков», одетых в непривычные для нас шорты и забавные шляпы, украшенные петушиными перьями.
Ни мы, ни эти веселые симпатичные ребята не подозревали тогда, что спустя три-четыре года начнутся массовые репрессии и многие из нас, а они — все поголовно — окажутся в лагерях, как самые опасные преступники. Шуцбундовцы были первыми иностранцами, с которыми мы столкнулись чуть поближе. Зато в 37-м году и позднее в лагерях я на них насмотрелся предостаточно.
Обидно и мучительно было нам без всякой вины переносить все тяготы диких, нелепых обвинений и страшной лагерной жизни. Мы попадали в лагеря в шоковом состоянии, для иных оно продлевалось на долгие годы. И все же мы были в своей стране, среди своих, таких же, как мы, многим в лагеря и тюрьмы шли передачи, письма, изредка посылки от родных людей.
Как же тяжело, стократ тяжелее нашего, и морально и физически приходилось иностранцам, в большинстве — членам компартий, попавшим в такую переделку в стране обетованной, куда они стремились, как верующие мусульмане в священную Мекку. Им, не знающим ни языка, ни обычаев и нравов, напрочь оторванным от родины, лишенным какой-либо помощи от родных, ошеломленным и разочарованным, пришлось нелегко, и далеко не все сумели приспособиться и выжить. Первым иностранцем, которого я встретил в тюрьме, был поляк, член ЦК польской компартии Ендржиховский. К нам, в камеру внутренней тюрьмы на Лубянке, его привели ночью прямо после ареста. Щуплый, сутулый, с совершенно лысой головой, он казался очень больным человеком. Так оно и было — перед арестом у него случился тяжелый приступ заболевания почек, отбитых на допросах в польской охранке. Как и все только что арестованные, Ендржиховский был растерян и одновременно вполне убежден, что произошло какое-то досадное недоразумение, все в ближайшее время разъяснится и его, конечно, отпустят.
Мы в камере успели посидеть по-разному, но достаточно, чтобы усвоить одно: здесь никто не стремится разобраться и установить истину. Самый живой и энергичный из нас, военврач I ранга Николай Александрович Трофимук, тренер Чкалова, Байдукова и Белякова, провозился с Ендржиховским до утра — приступ усилился, боли были нестерпимые.
Утром к больному вызвали врача. Пришел неразговорчивый, крайне осторожный субъект, наскоро осмотрел, дал какое-то лекарство, но легче больному не стало. Николай Александрович старался облегчить его страдания, ставил импровизированные компрессы — единственное, что было здесь. Одновременно, зная, что Ендржиховского в ближайшее время неминуемо заберут на допрос, он деликатно, но настойчиво старался его к этому подготовить и внушить, что необходима крайняя осторожность. Ендржиховский никак не хотел понять, что его болезненным состоянием следователь постарается воспользоваться, чтобы сломить его волю и заставить подписать все, что на него навесят. Ничего за собою он не знал и в ответ на предостережения с грустной улыбкой отвечал:
— Доктор, вы есть политический циник.
Опасения Николая Александровича подтвердились: уже вечером Ендржиховского увели на допрос и продержали всю ночь. Только на рассвете возвратился он в камеру, совершенно разбитый, и тут же в изнеможении повалился на кровать. Перед тем как уснуть, он прошептал, обращаясь к Трофимуку:
— Извините, доктор, вы есть правый.
Первую половину дня мы старались двигаться бесшумно и говорили шепотом — надо было дать человеку отоспаться. Только к вечеру он ожил, даже попытался через силу улыбаться. Однако ночью у него снова начался припадок, его срочно увели, и в камеру он не возвратился. Больше ничего я об Ендржиховском не знаю, вряд ли этот хилый, тяжелобольной человек смог выжить в тяжелых лагерных условиях.
Таким же хилым и, пожалуй, еще менее жизнеспособным показался мне второй встреченный в тюрьме иностранец, немецкий коммунист Фриц Айхенвальд. Если Ендржиховский как-никак славянин, хоть и с акцентом, но все же изъяснялся по-русски, то Фриц, худой, темноволосый, с глубоко запавшими черными глазами, едва понимал нас. Правда, в камере на 25 человек в Бутырской тюрьме он быстро пополнял свой словарный запас. Немало способствовал обогащению его лексикона и следователь.
Однажды, вернувшись в камеру после очередного допроса, Фриц чуть ли не с порога обратился к нам за разъяснением:
— Мой следователь сказал мне: «Ты есть фашистская б…!» Фашистская — это понимаю. А что есть б…?
Ему объяснили, и Фриц огорчился — диким казалось ему, еврею-коммунисту, получить такое прозвание в стране победившего социализма, куда он попал, спасаясь от фашизма.
Фриц страдал каким-то хроническим заболеванием желудка, совершенно не мог есть наш ржаной хлеб. Тюремный врач был вынужден выписывать ему белый хлеб, но в лагере, куда Фриц, несомненно, попал, о таких льготах нечего было и думать — это был человек обреченный. К тому же, если в тюрьме действовала взаимопомощь и таким как Фриц, не получавшим помощь от родных, выделялась вполне приличная доля из приобретенных в тюремном ларьке продуктов (это называлось «комбед»), то в лагере это исключалось — там все жили впроголодь и помогать было просто не из чего.
И Фриц, и Ендржиховский повстречались мне в следственных камерах, где кроме них иностранцев не было. Правда, ходили слухи о массовых арестах членов братских компартий, но в это как-то не верилось. Однако постепенно эти слухи подтверждались, такие сведения привозили те, кого из Бутырок возили для допросов на Лубянку. Там в «собачниках» уже попадалось немало иностранцев, их привозили на допросы, в основном, из Лефортовской тюрьмы. Однажды, прослушав такой рассказ, кто-то из наших наивно спросил:
— Как же на это реагирует Коминтерн? И мгновенно получил ответ:
— Коминтерн? Собрался на очередной конгресс в Лефортове.
Зато в пересыльных камерах Бутырки среди осужденных Особым совещанием оказалось немало иностранцев, все по формулировке ПШД (подозрение в шпионской деятельности). Почти все они коммунисты: немцы, поляки, болгары, югославы, чехи; были здесь и социал-демократы — австрийские шуцбундовцы. Запомнились трое молодых немецких коммунистов. Очень дружные, они на наших вечерах самодеятельности слаженно исполняли песню немецких концлагерей «Болотные солдаты»:
Wir sind die Moorsoldaten
Und gehen mit den Spaten
Ins Moor, ins Moor.
(Мы болотные солдаты.
Идем, несем лопаты
В болота, в болота.)
Пели они, постепенно заглушая тембр, как бы утопая в болоте, получалось очень выразительно. Эту песню я потом не раз вспоминал в лагере, в топких болотах республики Коми.
Бросался в глаза бледнолицый невысокого роста человек, одетый в полосатую робу — форму гитлеровских концлагерей, немецкий коммунист Иозеф Бергер. Теребя отросшую в тюрьме реденькую бородку, Бергер, поблескивая холодными голубыми глазами, иронизировал над превратностями судьбы, приведшей его из гитлеровской тюрьмы в советскую, социалистическую; свою униформу он носил с гордостью, демонстративно.
Среди нас был красивый молодой австриец, шуцбундовец Алоиз Кройзинбруннер. Русоволосый, с правильными чертами лица, он напоминал мне древнеримскую скульптуру — портретную голову красавца-юноши Антиноя, любимца императора Адриана. Алоиз сохранил австрийское гражданство, он устоял перед нажимом следователя, который упорно добивался от него заявления о переходе в советское гражданство, обещая за это освобождение. Он был убежден, что его как австрийского подданного рано или поздно обменяют, и не переставал на то надеяться.
Однажды в умывальной, когда мы стояли в очереди, чтобы окатиться до пояса холодной водой и хоть ненадолго освежиться, Алоиз на ломаном русском языке в очередной раз заговорил на эту тему. В ответ маленький, весь заросший черной шерстью крепыш-югослав, энергично растиравший грудь и спину мохнатым полотенцем, на таком же ломаном языке возразил:
— Дурак, кто же это согласится вместо тебя сюда (то есть в тюрьму) ехать.
Дружно держалась небольшая группа болгар, вожаком в ней был уже немолодой сухощавый Бокарджиев. Однажды вечером кто-то из болгар предложил послушать его рассказ о легендарном побеге группы коммунистов из центральной тюрьмы Софии. Все охотно согласились. Рассказ о побеге через всю Болгарию, переходе сквозь кордоны, расставленные на пути беглецов, и, наконец, через границу, о всех трудностях и лишениях, выпавших на их долю, был очень интересен. Много позднее, уже в лагере, от болгар я узнал, что душой и руководителем этого побега был сам Бокарджиев, тогда в Бутырках он об этом умолчал.
Близким моим другом в лагере стал член польской компартии Володя Щастный (Щентсны). В отличие от других иностранцев он свободно говорил по-русски, так как вырос в Питере, где десятилетним мальчуганом зарабатывал на пропитание, сбывая на улицах иллюстрированные похабные книжонки про Распутина и царицу: «Купите книжку про Распутина Гришку, про царя Николашку и жену его Сашку!»
Позднее семья его оказалась в Польше, там подросший Володя стал коммунистом и принял деятельное участие в борьбе белорусов, каковым он себя считал, против пилсудчины. Не раз он по заданию партии нелегально переходил советско-польскую границу, снова возвращался в Польшу, сидел там в тюрьмах, был нещадно бит на допросах в польской охранке, нажил туберкулез легких в тяжелой форме. Так продолжалось, пока в один несчастный день его не посадили — тогда эта участь постигла большинство польских коммунистов, оказавшихся в Советском Союзе.
В лагере Володя ругательски ругал себя за всю свою революционную эпопею, твердил, что он поляк, а национал-белорусские увлечения объявлял заблуждением, сплошной дурью. В польских тюрьмах его зверски избивали, здоровье было вконец подорвано. Володя был невероятно худым, задыхался, надрывно кашлял; его черные, влажные как у оленя глаза во время таких приступов выглядели страдальческими. Но по натуре он был веселый, заводной, иногда язвительный, большой любитель всяких шуток и розыгрышей.
По профессии Володя был скульптором, вместе с ним мы организовали при кирпичном заводе мастерскую по изготовлению декоративной керамики и игрушек. Вокруг себя мы собрали людей с художественными наклонностями, и дело пошло неплохо. Весной сорок первого года у Володи окончился срок, и с началом навигации он отбыл с лагпункта. По уговору Володя должен был сообщить о себе, но вскоре началась война, нас лишили права переписки, и больше ничего я о нем не знаю.
Среди людей, которых мы с Володей привлекли в мастерскую, были двое иностранцев — немка Зюзанна Леонгардт и старик-австриец Франц Баумбергер. Вообще немцев на лагпункте было немало, но из них иностранцев только трое: Зюзанна, Баумбергер и бывший редактор коммунистической газеты «Роте Фане»[1] Пауль Франкен. Остальные были советские немцы, предки которых переселились в Россию при Екатерине II и Александре I в конце XVIII и в начале XIX века.
Немцы иностранные смотрели на них несколько свысока, хотя и относились неплохо. Дело в том, что советские немцы в течение почти двух столетий сохранили первоначальные диалекты своих предков с добавлением некоторых русицизмов, современный немецкий язык они понимали с трудом. На этой почве порой случались забавные недоразумения. Однажды Пауль Франкен беседовал на немецком языке с евреем Давыдовым. Случившийся рядом приволжский немец Кнаус спросил: «Вы на еврейском говорите, что ли?» Поволжские немцы и в свою немецкую речь порой вставляли забавные комбинации — гибриды из русских и немецких слов. Я слышал однажды, как кто-то из них спросил своего земляка, маленького старичка по фамилии Лир: «Карл Иванович, хабен зи дас Брот геполучайт?»
Наши поволжские немцы были людьми малообразованными, серенькими, зато все иностранные оказались незаурядными личностями. Это и понятно — каждый из них в свое время еще на родине определил свой жизненный путь, решительно отказавшись от привычного обывательского существования. Этот путь привел их в Россию, которая представлялась страной, где осуществляются лучшие идеалы человечества. И не их вина в том, что эти иллюзии обернулись лагерем.
Зюзанна Леонгардт, жена известного немецкого писателя Рудольфа Леонгардта, коммунистка, была, как почти все наши иностранцы, осуждена Особым совещанием на пять лет по формулировке ПШД — подозрение в шпионской деятельности. В эту формулировку стоит вдуматься: только подозрение — и пять лет лагерей, а то и больше.
С мужем Зюзанна давно разошлась, ее сын, названный Володей в память Ленина, воспитывался в Москве в семье Карла Либкнехта. Вдова Либкнехта регулярно присылала Зюзанне письма и посылки, следовательно, ни в какой шпионаж не верила.
На родине Зюзанна получила хорошее гуманитарное образование, имела ученую степень бакалавра искусств. Очень болезненная, страдавшая многими хворями, она, тем не менее, была известна на лагпункте своими романтическими историями. Была она хрупкая, невзрачная, всегда стриженная под мальчика, с округлым лицом, которое оживляли зеленоватые кошачьи глаза. И было в Зюзанне нечто, превращавшее увлеченных ею мужчин либо в неистовых ревнивцев, либо в покорных рабов. Это создавало ей не лучшую репутацию, среди женщин близких у нее не было, большинство мужчин ее тоже не одобряли.
Но Зюзанна ставила себя и свои пристрастия выше всего, в разговорах с нами своей особой заслугой считала проповедь сексуальной свободы, которую она и какая-то ее единомышленница вели у себя на родине, словом и делом показывая женщинам новый путь. В остальном она была человеком порядочным, неглупым, трудолюбивым и организованным, с тонким художественным вкусом.
Австриец Баумбергер был среди нас одним из самых старых, ему было лет шестьдесят, не менее. Уже то, что в таком возрасте этот высокий сухощавый старик с оружием в руках выступил в рядах шутцбундовцев против австрийских фашистов — свидетельство серьезности и твердости его убеждений. По профессии Карл Францевич был токарем высокой квалификации. На Адаке он, естественно, по специальности работать не мог. В керамической мастерской и он, и Зюзанна оказались очень полезными людьми. Не имея в прошлом никакого опыта, Баумбергер научился изящно и чисто лепить ручки для ваз и крепить их к отформованному на гончарном круге корпусу. Зюзанна красиво и изобретательно расписывала вазы по чернолаковому фону. Сам Баумбергер свои и Зюзанны успехи в новом для них деле объяснял системой образования, принятой у них на родине.
Ко мне Баумбергер относился дружественно, быть может, потому, что я, хоть и коряво, беседовал с ним на родном языке. Русским он владел плохо, разговаривал обычно лишь с Зюзанной, к ней он был очень внимателен. Однажды из-за своего джентльменского поведения Баумбергер попал в забавную историю.
Работали мы небольшой группой, человек восемь, в отведенном под мастерскую уголке огромного сушильного сарая, заполненного стеллажами с кирпичом-сырцом. В противоположном торце сарая размещались топки, огонь в них поддерживался круглосуточно, тепло по подпольным калориферам распространялось по всему помещению. Кирпичная выстилка над топками всегда была горячей, сюда после работы в лесу люди приходили погреться, просушить мокрую одежду и обувь. Из нашего угла за стеллажами увидеть их было невозможно, но голоса их до нас доносились.
И вот однажды во второй половине дня мы, сидя за рабочими столами, невольно стали слушателями необычного концерта. Мужской хор исполнял песню, слова были нерусские. Пели куплеты, сопровождая их совершенно немыслимым аккомпанементом в виде неприличных звуков, очень громких. Баумбергер посуровел, его густые брови сдвинулись, и резким движением старик поднялся с места.
— Дас зинд грузинен! — возмущенно проговорил он.
Но я уже успел опознать среди певцов-виртуозов голос приволжского немца Вильгельма Кнауса.
— Наин, дас зинд дойчер (нет, это немцы), — лукаво бросил я.
— Унмоглик! (невозможно), — возмутился старик и решительно зашагал к поющим.
Мы внимательно вслушивались, ожидая перепалки. Но ее не услышали, хотя пение и аккомпанемент прекратились. Слышалась лишь тихая спокойная речь.
Спустя некоторое время Баумбергер вернулся. Его лицо казалось спокойным, даже умиленным.
— Франц Карлович, зинд дас грузинен? (грузины ли это?) — спросил я с ехидцей.
В ответ он покачал головой:
— Знаете, это старинная песня, ее поют у нас в горах, в Тироле. Но, Боже мой, что они здесь из нее сделали!
После заключения с Германией договора о ненападении Баумбергер как германский гражданин был освобожден. Зная его, уверен, что, несмотря на пережитое в лагере, он ни на какое сближение с нацистами не пошел.
Из иностранцев, кроме Щастного, ближе всех я был с Паулем Франкеном. Не то что я с ним дружил, но отношения были хорошие и мы часто беседовали. Это был спокойный основательный человек лет сорока, с крупной лобастой головой. Уроженец знаменитого города металлургов Золингена и сам рабочий-металлург, Пауль вырос в необычной семье: отец и мать были глухонемые. Совсем молодым он вступил в коммунистическую партию, много работал над своим образованием, стал журналистом, а позднее — редактором газеты «Роте Фане» — органа германской компартии. После прихода Гитлера к власти Пауль с женой, еврейкой по происхождению, эмигрировал в Советский Союз. Жена его тоже была арестована и попала в лагерь, известий о ней Пауль не имел, и это его очень печалило.
В начале сорок первого были освобождены те, кто отбыл свой пятилетний срок, среди них были и различные начальники из заключенных. На кирпичном заводе получилось так, что на их места были назначены немцы: старательные и работящие, они были на хорошем счету у начальства. Мы добродушно посмеивались над «арийским руководством» завода: начальник завода — немец-меннонит Берг, главный мастер — немец Крамм, бригадиром был назначен Пауль, кладовщицей — Зюзанна. И вот неожиданно для нас — война. На лагпункт нагрянули стрелки. В этот же день, впервые за все время существования завода, нас вывели на работу под конвоем. Так случилось, что о начале войны первым узнал от стрелков Берг. Донельзя расстроенный, он шепотом сообщил мне эту новость на разводе: новость была ошеломляющей.
Пауль переживал известие о нападении Гитлера, пожалуй, острее, чем любой из нас — он единственный из нас по своему опыту представлял себе, что такое фашизм.
— Поверь, — говорил он мне, — что я ненавижу фашизм и Гитлера, это страшная сила, жестокая и бесчеловечная. И я, и моя жена не раз выступали против фашизма по советскому радио. Если они до нас доберутся, нас ожидают пытки и мучительная смерть. А всех вас — страшные жестокости, это звериная идеология, они никого не пощадят.
Пауль опасался, что немцы одолеют нас за счет большей организованности и фанатизма. Расстроен он был, пожалуй, больше, чем мы, хотя и мы были в смятении — у многих родные оказались в зоне военных действий, а позже мы с тревогой и болью узнавали об оккупации все новых и новых территорий.
Через несколько дней после начала войны всех немцев отделили от нас и вскоре куда-то увезли. Больше ничего не знаю об их дальнейшей судьбе, но навсегда я сохранил добрую память о них — все они были хорошими товарищами в совместно пережитых нелегких испытаниях, выпавших на нашу долю.
[1] «Роте Фане» («Die Rote Fahne» — «Красное знамя») — немецкая коммунистическая газета, основанная К. Либкнехтом и Р. Люксембург.
Источник: Рубанович Виктор. Адрес – лагпункт Адак: автобиографическая проза. М.: Возвращение, 2011. с. 158-168. (Тираж 2000 экз.)