Мне предстояла служба и меньше чем через год — встретить войну
Берковский Юрий Романович родился в 1922 году в Москве в семье архитектора и школьной учительницы. В Красной Армии с 1940 года. Прошел всю войну и с фашистской Германией и с Японией. Воевал на Ленинградском, 2-м Прибалтийском, 3-м Белорусском и 1-м Дальневосточных фронтах. Служил в Противовоздушной обороне флота, в Морской пехоте, в частях связи артиллеристом, радистом, линейщиком, телефонистом. В 1941 году был ранен.
Демобилизовался в ноябре 1946 года. В 1954 году окончил Московский полиграфический институт. Работал художником. Член Союза художников и участник многих художественных выставок. Работы Ю.Р. Берковского имеются в Третьяковской галерее, Государственном музее изобразительных искусств, Казанском музее изобразительных искусств, в Саратовской художественной галереи.
26 сентября 1940 года меня призвали на срочную службу в армию, на флот. Отец проводил меня до призывного пункта. «Ну, давай поцелуемся», — сказал он, мы расцеловались, и он пошел на работу. Отец никогда нас с братом не целовал, это было первый раз, и я почувствовал значительность момента.
Призывной пункт был в каком-то клубе на Шаболовке. Я сдал документы и стал слоняться без дела. Время текло мучительно долго. К концу дня нас построили, разделили на группы и на грузовиках повезли на железную дорогу. Когда наша машина выезжала из ворот, меня окликнул отец. Он, очевидно, отпросился с работы и приехал, чтобы еще раз повидать меня. Мы помахали друг другу рукой, и меня увезли на шесть с лишним лет из Москвы, из дома, из семьи совсем в другую жизнь.
Через два дня нас привезли в Ленинград, во флотский экипаж, а оттуда, обрядив во все флотское, отправили в часть.
Приехали ночью. Слышно было, как рядом ревело море. Из темноты выступали направленные в небо зачехленные стволы орудий. Все было непонятным и значительным. Мы спустились в большую, освещенную коптилкой землянку, где и обосновались на ночлег.
Утром оказалось, что привезли нас на зенитную батарею, расположенную на самом берегу Финского залива. Из земли смотрели в серое, с низко летящими облаками небо зенитные пушки. Море затихло после ночного шторма, но все еще шумело. Батарея стояла на берегу небольшой бухты, которую окружал темный сырой лес с большими валунами. На опушке ютились армейские палатки. Меня сразу поразила суровая красота места. Здесь предстояло служить, а меньше чем через год — и встретить войну.
На огневой позиции находились четыре орудия. В центре размещались два окопа для приборов: планшета-построителя и баллистического преобразователя. Справа сзади был окоп для дальномера. Слева от орудий располагался счетверенный зенитный пулемет на автомашине. Сзади всей батареи, по центру находился командный пункт и разведка. В некотором отдалении гараж тракторов-тягачей и склад боеприпасов.
У каждого орудия, приборов и других систем были соединенные с ними жилые землянки — кубрики, как их называли по-морскому. У орудий находились еще крытые ниши для боекомплекта. Орудия стояли в круглом углублении диаметром 5 м и глубиной 1 м. Вокруг был полуметровый бруствер. Всё прикрывалось маскировочной сеткой. Сама же пушка, на которой мне пришлось служить, — зенитное 76-мм орудие образца 1931 года — к этому времени была немного устаревшая. Я все это так подробно описываю для того, чтобы в дальнейшем была понятна та обстановка, в которой происходила учебная и боевая жизнь.
Мы толпились неуверенной группкой, и нас с любопытством разглядывали старослужащие. Это были ребята весенне-летнего набора, прослужившие до нас месяца три. После завтрака нас построили, несколько слов сказал командир батареи лейтенант Харитонов, сухощавый, среднего роста человек с насмешливыми глазами. Что-то сказал политрук Моденов и старшина батареи, фамилию которого я не запомнил.
Недели две нас помуштровали в учебном взводе и после этого распределили кого куда. Я попал на четвертое орудие третьим номером, счетчиком трубки. Трубкой называют числа на кольце головки снаряда. От ее установки зависит на каком расстоянии разорвется снаряд. При стрельбе прямой наводкой 3-й номер устанавливает упреждения на прицеле по команде командира орудия.
В лагере мы пробыли до конца октября, а затем переехали в зимние казармы, в дивизион. Он находился километрах в трех от нашей боевой позиции и располагался между базой торпедных катеров и озером, служившим аэродромом для гидросамолетов МБР-2 (морской ближний разведчик). Для охраны этих двух объектов и предназначался наш зенитный дивизион — 13 озад ПВО КБФ.
На новом месте началась довольно нудная казарменная жизнь с ее нарядами на камбуз, караульной службой, муштрой и т.п. Но было и существенное для меня преимущество — довольно приличная дивизионная библиотека. Все свободное время использовал для чтения. Однако вскоре меня загрузил политрук. На батарее только я был с десятилетним образованием. Кроме меня были один с восьмилетним и один с девятилетним. Подавляющая же часть имела начальное четырехлетнее. Нас троих политрук и гонял, как говорится, в хвост и в гриву.
Я был агитатором, преподавателем политподготовки, преподавателем общеобразовательной группы, кроме того, мне постоянно поручались какие-то лекции, то по астрономии, то к какому-нибудь литературному юбилею. Больше всего меня тяготило агитаторство. Требовалось вести дневник, записывать проводимые беседы и все задаваемые мне вопросы. Я не хотел, да, наверное, и не смог бы поучать ребят, с которыми бок о бок жил и делил все тяготы службы. Не хотел ни в коей степени ставить себя в какое-то исключительное положение. Вскоре, однако, я понял, что в дневнике можно писать все, что нужно, независимо от того, рассказывал я что-то или нет. Самое неприятное было то, что агитатор был обязан информировать политрука обо всех сомнительных разговорах, коли таковые будут. Другими словами, я попросту должен был стать «стукачом». Но уж на это я пойти никак не мог. Поэтому каждый раз, когда политрук вызывал меня с отчетом о проделанной работе, я показывал ему дневник с фиктивными записями, а на вопрос: «Не ведутся ли какие-либо антисоветские разговоры?» — уверенным тоном отвечал, что таких разговоров никто не ведет. Мне казалось, что на моем месте так поступал бы каждый, но вскоре я убедился в обратном. Как-то меня вызвал политрук, и я понял, что на меня кто-то настучал. Не помню, что я трепанул, что-то незначительное, но хорошо помню, кто это сделал. Догадаться не представляло труда. Это был противный парень весеннего призыва с откровенно глупой физиономией, оформленной торчащими в разные стороны ушами. Несмотря на глупость, он отличался служебным рвением и карьеризмом. К весне он стал уже младшим сержантом. Когда же осенью наша батарея попала в окружение, он сорвал с рукавов лычки, сменил мичманку на бескозырку и уничтожил комсомольский билет. Все это не повлияло на его военную карьеру. После войны я встретил его морским подполковником Генштаба.
ё Почти все наше время было заполнено учебой. Строевая, огневая, стрелковая, тактическая, физическая, политическая подготовка, уставы, матчасть (устройство пушки). Все это, за исключением физкультуры, не представляло трудности, и я успешно проходил всяческие проверки. Поэтому был на хорошем счету у командования, хотя, как теперь думаю, и с некоторой долей недоверия из-за моей интеллигентности и малого возраста. Вообще же ко мне и в отделении, и на батарее хорошо относились, несмотря на то, что я не курил, не ругался матом, много читал, всегда оставался самим собой и никогда не старался подделаться к окружающим. Тогда я просто не умел этого делать, а в дальнейшем и надобности такой не возникало.

Ф. Федоров
Отделение наше было дружным. Хорошо помню всех ребят. Впоследствии мне пришлось служить с очень многими, не всех помню, но тех, с которыми пришлось начинать службу и принять боевое крещение, я запомнил на всю жизнь. Врезались в память и их лица, и голоса, и привычки. Командиром орудия был сержант Сиротин лет 23-х. Имени его не помню, наверное, потому, что звали его по-флотски — старшина или просто старшой, он прослужил уже три года. На лице его постоянно присутствовала какая-то усмешка. Он относился к нам, салагам, с вполне объяснимым легким высокомерием опытного служаки, но оно не было обидным, больше насмешливым, снисходительным и покровительственным. При всем демократизме в отношениях с подчиненными, принятом в те времена на флоте, он был требователен и не допускал панибратства.
Первым наводчиком был Иван Дьяченко, тоже старослужащий. Он прослужил два года и только что отгулял отпуск. Отпускные впечатления переполняли его, и он делился ими при каждом удобном и неудобном случае. С командиром они были на равных и приятельствовали. Дьяченко был украинцем и говорил по-русски с большими примесями украинских слов и с южным произношением. К нам, новичкам, он относился с тем же покровительственным превосходством, но тоже вполне доброжелательно. Эти двое — командир и первый наводчик — были, действительно, старослужащими. Остальные все служили меньше года.
Заряжающим был Вася Савельев, высокий и сильный, как и положено быть заряжающему, Вася был ленинградским рабочим. Он в свои 20 лет был среди нас единственным женатым, и это обстоятельство придавало ему какую-то особую солидность. Васька любил насмешничать и умел подметить в людях что-нибудь комическое. Подсмеивался, но необидно. Вообще, у нас в расчете было принято подсмеиваться друг над другом, и никто не обижался, кроме, пожалуй, Дьяченко, который иногда после какой-нибудь шутки надувался, как мышь на крупу.
Вторым наводчиком был Василий Давыдов, добродушный, смешливый малый, тоже из ленинградских рабочих. Над ним все подсмеивались, но он не обижался, и сам смеялся вместе со всеми. Во рту у него не хватало переднего зуба, и когда Васька произносил почти после каждого слова «мать твою ети», то при произношении звука «ть», у него смешно выскакивал язык, что всех приводило в восторг. Васька был очень добрым и безобидным человеком, всегда готовым прийти на помощь. В самом начале войны он чем-то заболел и попал в госпиталь, оттуда в морскую пехоту. Что с ним стало после, не знаю, но на собственном опыте знаю, что остаться живым, попав в бригаду морской пехоты, — шанс невелик.
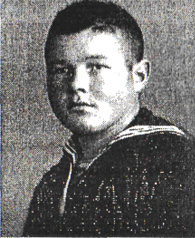
И.М. Голынский
После ухода от нас Давыдова, меня поставили вторым наводчиком, а счетчиком трубки стал Ванька Голынский, взамен выбывшего Давыдова. Это был круглолицый, тупой парень, очень злой и подозрительный. Однако, войдя в нашу дружную семью, он немного отошел, потеплел.
Первым трубочным был Федя Федоров, московский рабочий, — молчаливый, умный паренек, с ярко выраженным чувством собственного достоинства. Несмотря на то, что он был салага, к нему сразу стали относиться с уважением. Над ним единственным, пожалуй, никто не подсмеивался. Вторым трубочным был Семен Золотарев — безобидный добрый паренек, но какой-то никакой. Запомнилось его лицо с пушком на подбородке и под носом, Он был немного гнусав, очевидно, из-за не удаленных в свое время аденоидов.
Боевую учебу венчали орудийные стрельбы. Батарея усиленно готовилась к ним. Мы все время ждали, вот-вот назначат стрельбу, но все что-то срывалось. Один раз ее даже назначили, и мы ждали самолета с рукавом, но он так и не появился. Обстановка вокруг этого все больше нагнеталась.
Старослужащие стращали нас, салаг необстрелянных, своими рассказами о том, как бьет пушка по ушам и какие бывают случаи при этом. Наконец, назначили стрельбы. Стрелять должна была не вся батарея, а только наше орудие как имеющее лучшие показатели в боевой подготовке.
Стрельбы производятся по так называемому рукаву — цилиндру из натянутой на каркас парусины, который буксирует самолет.
И вот настало время стрельбы. Мы стояли каждый у своего механизма в нервном напряжении, ожидая цели. Наконец на планшете-построителе отрапортовали: «Цель поймана!». Забегали и установились на нужных местах стрелки приборов. Я начал выкрикивать показатели трубки, считывая их с прибора. Как и полагалось, держась двумя руками за прибор, я шел за двигающимся орудием, переступая через сошники. Все с напряжением ждали ревуна. Бежали длинные-предлинные секунды. Раздался ревун, металлический лязг снаряда, заталкиваемого в казенную часть ствола, и раздается дикой силы удар, превосходящий все ожидания, все рассказы бывалых служак. Удар не только по ушам, хотя по ушам, конечно, прежде всего, но по всему организму. В ушах — еле терпимая боль, звон и звук вроде паровозного свистка, и полная глухота. От неожиданности я потерял дар речи и стоял, разинув рот. Ничего не слышу и через мгновение вижу, что командир орудия что-то кричит. По его лицу и движению рта я понимаю, что он матерится. Еще через мгновение понимаю, что он материт меня, но я в каком-то столбняке и забыл, что должен считывать трубку. От всеобщего позора меня спасло то, что благодаря большому морозу, смазка в тормозе отката и накатнике замерзла, и ствол, откатившись, не смог возвратиться на место. Стрельба была сорвана, но не по моей вине.
Не знаю, почему на меня так подействовал удар выстрела. Может быть, мои уши были чувствительнее, чем у других. Потом, в начале войны, тоже было трудно, но не было эффекта неожиданности, и как-то приспособился. Вскоре кому-то пришло в голову затыкать уши ватой. При этом все слышишь, и в то же время снимается острота удара.
Предвоенная зима была довольно тревожной. Начиная с февраля, нас часто поднимали среди ночи по боевой тревоге. Мы вскакивали и, одеваясь на ходу, бежали на огневую позицию, находившуюся метрах в ста от городка. Требовалось привести батарею к бою за 5 минут. Мы с грехом пополам укладывались в это время. Однако оно стало не удовлетворять командование. Тогда решили установить суточное дежурство каждой из трех батарей нашего дивизиона посменно. На время дежурства всем расчетам находиться на позиции в палатках.
В середине марта ночью какой-то немецкий самолет в нашем районе нарушил государственную границу. Самолета мы не видели, но полночи простояли у орудий. После этого на постах наблюдения за воздухом появились изображения силуэтов немецких самолетов. Всё это говорило о приближающейся войне, но стало понятно позже. Жизнь нашей части, как нам казалось, была вполне мирной, полная своих трудностей и радостей. К последним относилось мое первое и до войны единственное увольнение в Ленинград и Петергоф.
В двадцатых числах мая 1941 года с нашей батареи была отпущена в увольнение группа человек десять. Возглавлял ее политрук Моденов. С нашего орудия я был единственным, попавшим в увольнение. Собирал меня весь расчет. У меня не было достаточно приличной, с точки зрения флотской моды, экипировки. Вася Савельев дал брюки, растянутые на клиньях из фанеры до приличествующей ширины. Дьяченко — бескозырку с уменьшенным каркасом и ленточкой с надписью «Краснознаменный Балтийский Флот». Моя же, с надписью «Береговая оборона КБФ», была совершенно неприлична. Давыдов предложил мне свой вытравленный хлоркой гюйс.

Сидят: Пантелеев, Корнаков. Стоят: Зайцев, Берковский, Золотухин. Петергоф, май 1940 г.
Ленинград произвел огромное впечатление. Попав же в Петергоф, я был окончательно потрясен роскошью всего ансамбля, золотом фонтанов и их затейливой выдумкой. Вернулись мы поздно ночью, уставшие и переполненные впечатлениями. Это были последние мирные дни. Через несколько дней дана была команда «К бою!», а отбоя до конца войны не последовало.
По боевой тревоге наша батарея снялась с временной огневой позиции и перебазировалась на постоянную, на берегу залива. Весь месяц до официального начала войны мы стояли у орудий в боевой готовности № 1. В начале июня на батарею приехал какой-то капитан 2-го ранга штаба флота и, собрав весь личный состав батареи, рассказал, что война с Германией может начаться каждый день, что немцы стягивают свои войска к нашим границам и что нам нужно быть готовыми к отражению самолетов противника. Так что не надо говорить о неожиданности нападения Германии, мы с самого начала войны уже знали, что это не так. Возможно, что в других частях было иначе, не знаю.
22 июня, как и в предыдущие дни, ночью стояли по боевой тревоге. Часа в два ночи недалеко от берега низко над водой пролетел немецкий торпедоносец. Для нас это не было неожиданностью, начала войны мы ждали со дня на день. До сих пор в глазах остался длинный силуэт самолета на фоне светлого неба белой ночи. Приказа стрелять не было. У всех было ощущение, что война началась, и утром 22 июня мы обсуждали, сообщат по радио о происходящем или нет. Когда мы услышали выступление Молотова — все стало на свои места. Началась война.
Продолжение следует.
Источник: Военно-исторический архив №5 (77)








